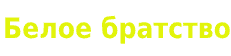Казацкое восстание 1614-1615 гг. стоит в ряду крупных народных движений в России XVII века. Переговоры с мятежными казаками вел Земский собор, против «Баловнева войска» действовали значительные отряды дворянский армии во главе с военачальником в ранге боярина. Поход атамана Баловня в известном смысле ставит точку на событиях начала XVII в.: в последний раз недавние холопы и крестьяне пришли к Москве с оружием в руках для того, чтобы узаконить свое положение казаков, добытое в ходе Крестьянской войны и борьбы с польскими и шведскими интервентами.
Помимо общих работ, восстанию 1614-1615 гг. посвящено специальное исследование В. А. Фигаровского (В. А. Фигаровский. Крестьянское восстание 1614-1615 гг. «Исторические записки». Т. 73. 1963), в котором впервые были обобщены данные некоторых опубликованных и архивных источников, показан размах движения, определена территория, охваченная восстанием. Однако такие существенные вопросы, как хронология восстания, программа и социальный состав его участников, требуют привлечения дополнительных источников. Важный комплекс материалов по истории восстания, еще не введенных в научный оборот, сохранился в фонде Разрядного приказа. Собранные здесь документы — воеводские отписки, допросы и челобитные казаков, поручные манией и т. д. — связаны с освобождением пленных казаков из тюрем; они содержат множество сведений о восстании, в частности яркое описание сражения под Москвой 23 июля 1615 г., дают представление о социальном составе восставших, их участии в событиях Крестьянской войны начала XVII в. и в военных действиях против польских и шведских интервентов.
Казачьи отряды (станицы) составляли значительную часть вооруженных сил Русского государства в первые годы царствования Михаила Романова. По некоторым данным, в конце 1612 г. стоявшие в Москве казаки в 1,5 раза превосходили по численности находившихся в столице дворян и стрельцов, вместе взятых. Тогда же была сделана попытка оставить на царской службе только «старых» казаков и таким образом уменьшить численность казачьих отрядов. Некоторые казаки, оставленные на службе, получили от нового правительства поместья и жалованье. Например, в 1612/13 г. в селе Никольском и двух погостах Вологодского уезда было размещено более 30 атаманов, есаулов и казаков. Однако завершение мероприятий по «разбору» казаков правительству пришлось надолго отложить: в обстановке продолжавшейся войны с Речью Посполитой и Швецией оно не могло «разрушить» казацкое войско и вынуждено было мириться со службой в нем холопов и крестьян.
Ареной восстания 1614-1615 гг. стала обширная территория к северу от Москвы, где в составе правительственных войск находились тысячи казаков: «Бывшу же войне великой на Романове, на Углече, в Пошехонье и в Бежецком Верху, в Кашине, на Беле озере, и в Новгородцком уезде и в Каргополе и на Вологде и на Ваге и в ыных городах». Еще в марте 1613 г. из Ярославля в Псков был послан крупный отряд во главе с воеводами кн. С. В. Прозоровским и Л. А. Вельяминовым. Помимо дворян и детей боярских, в этот отряд входили казачьи станицы атаманов Е. Порошина, Я. Грота, Ф. Бронникова, Н. Маматова, А. Трусова, В. Булатова, М. Титова и И. Бритвы. Не менее половины из них вскоре приняли участие в восстании. В Псков воеводы не прошли «от немецких людей» и получили новый указ действовать против шведов в Устрецких волостях и в районе Тихвина. Летом 1613 г. Прозоровский и Вельяминов были осаждены в Тихвине шведскими войсками, но отстояли город, несмотря на то, что посланный к ним на помощь отряд И. Сунбулова потерпел поражение. Нуждаясь в ратных людях, воеводы не препятствовали увеличению казачьих станиц за счет местного населения и служилых людей других категорий: холоп новгородца С. Изъединова боровичанин А. Григорьев позднее показал, что он «пристал к казаком к Сунбуловым, как шли под Тихвин». Еще раньше казаки Вельяминова взяли «сильно» сына служилого иноземца Б. И. Черновского. В Тихвине присоединился к казакам бывший недельщик (судебный исполнитель) Ямского приказа Б. Иванов. Столь необычную практику комплектования правительственной армии можно объяснить лишь тем, что находившиеся в ней на службе казачьи отряды сохраняли и после воцарения Михаила Романова известную внутреннюю автономию.
Осенью 1613 г. из Москвы в поход к Новгороду, захваченному шведами в 1611 г., выступило войско боярина кн. Д. Т. Трубецкого, в составе которого первоначально было 1045 казаков. В Торжке, где Трубецкой оставался несколько месяцев, армия пополнилась. Между дворянской частью войска и казаками, а также между различными группами казаков происходили острые столкновения: «Бяше же у них в рати нестроение великое и грабеж от казаков и ото всяких людей». В Тверском уезде на протяжении всего 1613/14 г. «казаки беспрестанно… ходили войною и дворян и детей боярских, и их людей и крестьян до смерти побивали, жгли и мучили». Одной из жертв этой «войны» стал кн. Б. В. Касаткин-Ростовский, тверское поместье которого разграбили казаки и холопы из войска Трубецкого по «подговору» посадских людей Твери. Сын боярский Г. Ржевский был взят в казачий отряд «неволею» во время его поездки из Торжка в Тверь.
Положение казаков в правительственном войске, несмотря на «многие службы», оставалось неопределенным. С одной стороны, они не были уверены и том, что их не вернут прежним владельцам, чего феодалы упорно добивались [прим. 1], с другой — не имея в массе своей поместий и «запасов», казаки могли содержать себя только за счет местного населения, что неизбежно должно было толкать пестрые по составу станицы на путь открытого разбоя. В октябре 1614 г. в тюрьму Разрядного приказа был посажен один из героев освобождения Москвы казачий атаман М. Козлов, которому ставилось в вину, что, направляясь на службу под Новгород, он грабил села царицы инокини Марфы и боярина кн. Ф. И. Мстиславского, «дорожных людей», снял соболью шубу с игумена Кирилло-Белозерского монастыря и т. д. [прим. 2]
В начале 1614 г. многие казачьи отряды, по-видимому, давно не получавшие жалованья, вышли из-под контроля царских воевод. Источники позволяют проследить действия некоторых из них. А. Семенов, бесчинствовавший, по словам кн. Трубецкого, в нескольких уездах вместе с атаманами И. Яковлевым и Васковским, пришел со своим отрядом в Рахин острог к воеводе И. Сунбулову, а затем тайно пробрался в Торжок. 17 февраля он увел из войска Трубецкого 200 казаков и вскоре появился в Угличском уезде. Если А. Семенов ушел со службы, то станица атамана И. Нагибина (возможно, участника восстания Болотникова) [прим. 3] была только еще послана из Москвы под Новгород «за неделю до масленицы». Путь к Торжку через Углич не самый короткий, но он, вероятно, был меньше разорен, чем места, по которым прошла армия Трубецкого. В Прилуцкой волости оба отряда встретились, и их предводители (А. Семенов, И. Яковлев и И. Нагибин) договорились пробиваться совместно к мятежным отрядам И. Заруцкого, находившимся в то время в Астрахани. В марте 1614 г. в Угличском и Кашинском уездах происходили столкновения служилых людей угличского воеводы с отрядами казаков. Несколько казаков попали в плен. Вскоре атаманы А. Семенов, И. Нагибин, Беляй и Щур появились в Череповской волости Пошехонского уезда, где решили «весновать» в с. Федосьино, неподалеку от Воскресенского монастыря. К 400 казакам, которых привели с собой атаманы, в Череповце пристало еще 200 или 300 человек, пришедших «неведомо откуда». Все эти казаки собирались «воевать» Вологодский уезд, а затем по Шексне и Волге идти к Заруцкому.
В то же время под Тихвином произошли события, оказавшие влияние на ход событий. 4 февраля 1614 г. на Олонце казаки разгромили отряд запорожцев. После этого «тихвинские сидельцы» получили указ идти на соединение с войском кн. Трубецкого, однако у них «учинилась… рознь»: Н. Маматов и А. Трусов ушли со своими станицами за Онегу. Голова Угрим Лупандин, приехавший во второй половине февраля на р. Пашу, где стояли казаки, никого там не застал: «Атаманы и казаки пошли… врознь в Заонежские погосты». В последних числах марта казакам были посланы царские грамоты, призывавшие их вернуться на службу: «И вы б… прежней своей службы и крови не теряли, шли к боярину нашему и воеводе ко князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому с товарыщи». Однако и через месяц отряды тихвинских казаков, как видно из отписки Трубецкого, все еще не прибыли на службу. Помимо Трусова и Маматова, в Заонежские погосты и «белозерские места» направились атаманы Щербак Иванов и Мурза Семенов после успешного боя со шведами на Волхове. 28 февраля они возвратились в Тихвин и после непродолжительного ареста были вновь посланы на Волхов. Казаки, ушедшие с Паши, однако, не последовали их примеру. В конце мая в Белозерский уезд «из кемских сел» пришел атаман Н. Маматов «с товарыщи». «От тех казаков, — сообщал 13 июня белозерский воевода, — сидим ныне в остроге с лошадьми и со всякою животиною с великим обереганьем».
В первой половине 1614 г. рассматриваемое движение как бы распадалось на десятки походов слабо связанных между собой казачьих отрядов. В поисках продовольствия казаки передвигались по Заонежью, Белозерскому, Вологодскому и Пошехонскому уездам, совершали рейды в сторону Углича, Ярославля и Романова. Для многих из них притягательной целью долгое время оставалась Астрахань, где действовал И. Заруцкий, который, по свидетельству И. Массы, «в страхе послал просить всех казаков, стоявших в эту зиму под Новгородом и Смоленском. Находившиеся под Новгородом, по-видимому, согласились соединиться с ним и обещали весною идти к нему на встречу, даже если бы для исполнения своего намерения им пришлись употребить силу, они обещали идти по Волге или сухим путем». Отправным рубежом для похода к Заруцкому был Пошехонский уезд. Этим и объясняется сосредоточение здесь казачьих станиц весной 1614 года. В конце марта они стояли «в Столыпинской волости и в Везовых волостях, и в Красном селе, и на Мологе, и в Любце, и в Луковце, и в Череповце». Только в селе Белом 400 казаков и черкас готовились «идти к Ивашку Заруцкому». Из-за этого скопления казаков сборщики Г. Несвитаев и В. Шупунов не смогли провести в конце марта в Тихвин пошехонских детей боярских. Не имела успеха и грамота, посланная казакам в Пошехонский уезд от имени царя Михаила Федоровича. В апреле в уезде было уже 1,5 тыс. сторонников Заруцкого, они построили суда и в середине месяца двинулись вниз по Шексне.
Некоторые казаки уже весной 1614 г. действовали совместно с запорожцами. 23 апреля угличский воевода И. Головин разбил отряд черкас на Мологе. Пленные показали, что они шли из Заонежских погостов вместе с русскими казаками через Вологодский уезд, где их отряд разделился: черкасы пошли на Мологу, казаки направились в Пошехонье, «а говорили де… меж себя, что им итти к Заруцкому». 1 мая в Вологодский уезд, «проломив» засеку, вошел другой отряд казаков и черкас, пришедших «из-за Шексны-реки, из-за Череповца». Он «разорил» Павлов, Корнильев и Никольский (на Комельском озере) монастыри, «маия до 12 числа на Вологде было осадное время». Часть казаков во главе с атаманом костромитином П. Кокориным перешла в мае из Вологодского уезда в Ярославский и Романовский, а затем вернулась в Пошехонье. Однако в окрестностях Вологды продолжали действовать казаки: 12 июня 1614 г. они увели 13 лошадей из вотчины вологодского архиепископа в Лежском Волоке, кн. Ф. Дябринский с 26 мая по 24 июня не мог выехать из Вологды в Москву, так как «в Вологодском уезде и по московской дороге воры были». Около этого времени к казакам, стоявшим под Романовым и ходившим под Вологду, ушли холопы кн. И. И. Козловского и П. Нарышкина и крестьянин из вологодского села боярина Б. М. Салтыкова. По рассказам (по-видимому, явно преувеличенным) русских дворян, захваченных шведами 17 июня 1614 г., казаки сожгли и разграбили Романов и Кострому и перебили местных жителей. На допросе Ф. Дуров ссылался, в частности, на письма, полученные костромскими дворянами из своих поместий.
В Белозерском уезде, по словам воеводы. П. Чихачева, «многие атаманы и казаки», стояли по «Петрово заговейно», то есть по 14 июня. 6 мая казаки, пришедшие из Череповца, «посекли» беспоместных детей боярских смольнян в Озадской волости Белозерского уезда, где смоленские помещики должны были получить новые поместья, причем белозерские стрельцы присоединились к казакам. Возможно, именно эти казаки переправлялись затем через Волгу накануне приезда 11 мая в с. Прилуки сына боярского В. Бахметева. Он доносил, что раньше казаки стояли в Белозерском уезде и в Череповце, «а говорили де они меж себя, что им прямо проиматься к Заруцкому».
К середине 1614 г. правительству в известной мере удалось овладеть положением и пополнить армию боярина Трубецкого некоторыми отрядами казаков, ранее ушедшими со службы, чему в немалой степени способствовали известия о неудачах И. Заруцкого. «Мятежные казаки, — писал И. Масса, — видя, что им на Заруцкого надеяться нельзя, пустились снова все под Новгород, грабя дорогою». Это свидетельство подтверждает наказ делегации, направленной к казакам в сентябре 1614 г., в котором излагается история восстания: царь посылал к ушедшим со службы из-под Тихвива казакам грамоты, уговаривать же их идти под Новгород отправились на места старец Мисаил [прим. 4] и московский дворянин Д. Ю. Пушечников, а после них — комнатный стряпчий Ф. Толочанов, — «и атаманы и казаки… были на службе». Позднее, в 1615-1616 гг., многие казаки упоминали в своих челобитных, что после тихвинской осады они служили с кн. Трубецким под Новгородом [прим. 5]. В начале апреля 1614 г. армия Трубецкого пришла к Новгороду и укрепилась в остроге, поставленном в Бронницах, 1 тыс. казаков была сослана в другой острог за р. Метой. По словам современника, находившегося в войске Трубецкого, новгородская дорога была опустошена: «Кормов конских, овса и сена не было, а по сторонам было пусто же, что многие от немец и от черкас и от воров казаков побиты и выграблены, и села и деревин позжены».
Освободить Новгород Трубецкому не удалось, а подошедшие шведские войска 14 июля захватили Бронницкий острог. Русские гарнизоны оставили также Старую Руссу и Порхов. Во время отступления к Торжку армия, собранная с таким трудом, начала распадаться. По словам казака И. Степанова, при отходе от Бронниц «ратные люди розбрелись розно». Тогда же ушли казаки Василий и Михаил Ивановы: «Да мы ж… на Бронницах стояли до отходу, и после, государь, отходу кормилися». В Торжке развал армии продолжался. «И как, государь, грех учинился над твоим государевым боярином над князем Дмитреем Тимофеевичем Трубецким на Бронницах, — писал казак С. Емельянов, — и князь Дмитрей пришол в Торжок, а мы, холопи твои, не изтерпя голоду, розбрелись розно». К казакам присоединились многие холопы, сопровождавшие прежде своих господ, в частности, умершего по дороге от Бронниц в Торжок воеводы стольника В. И. Бутурлина и суздальского сына боярского М. Соколова. Из Торжка ушел к казакам московский стрелец Томила Григорьев.
После событий под Новгородом восстание вспыхнуло с новой силой. Освободившись от службы, казаки «учали пуще прежнего воровать». На связь нового этапа движения с неудачей Трубецкого указывает документ, составленный в Посольском приказе, вероятно, весной 1615 г. для новгородских послов (далее мы будем называть его «посольской запиской» 1615 г.): «Казаки, которые были на Бронницах з бояры и воеводы со князем Дмитреем Тимофеевичем Трубецким с товарыщи и от него отстали, и почали было по городом воровать, розбивать и грабить и многие места около Вологды и в Поморье воевать».
1 сентября 1614 г. Земский собор постановил послать в Ярославль к казакам делегацию в составе суздальского архиепископа Герасима, боярина кн. Б. М. Лыкова, дьяка Б. Ильина, четырех московских «черных» посадских людей, трех атаманов, есаула и казака. Делегацию сопровождали более 250 дворян, детей боярских, стрельцов и казаков. Посланцы собора уполномочены были обещать казахам жалованье и свободу «должным и крепостным людям по приговору». В случае неудачи переговоров Лыкову указано было возглавить вооруженную борьбу с казаками. Время выступления Лыкова и второго воеводы Г. Валуева уточняется данными приходо-расходной книги Разрядного приказа: назначенным в поход дворянам, детям боярским, иноземцам и казакам было выдано денежное жалованье 12-14 сентября 1614 года.
Что же могли обещать восставшим архиепископ Герасим и боярин Лыков «с товарищи»? До нас дошел текст «памяти» с изложением указа, принятого по «боярскому приговору», когда «сидел в Казачьем приказе Иван Колтовский». По указу люди «всех чинов», бывшие в казаках, могли вернуться по своему желанию в старые чины. Холопы, ушедшие от своих владельцев до «государева обиранья» (тем, кто «стал в казаки» позднее, как справедливо отметил В. А. Фигаровский, свобода выбора не предоставлялась [прим. 6]), имели право поступить в холопы и к новым господам. Условием выхода из казачества были поручные записи по казакам «в воровстве». Последняя оговорка свидетельствует о прямой связи указа с восстанием 1614-1615 годов.
О практической реализации законодательства, относящегося к казакам, позволяют судить сохранившиеся документы, например, о Ф. Тимофееве, холопе Федора и Юрия Колединских, задержанном в Рязани 28 июля 1615 года. В расспросе Ф. Тимофеев сказал, что он «старинный человек» Колединских и вернулся к ним после «разбора» казаков под Москвой. На запрос Разрядного приказа Челобитный приказ прислал справку: «Нынешнего 123-го (1614/15 г.) году, как розбирали казаков окольничей Ортемей Васильевич Измайлов да дьяк Офонасей Истомин, и в разборном списку написано: Онохиной станицы Маркова Оношкина десятку Савельева казак Федка Тимофеев. Сказался Васильев человек Колединсково. А в казаках тому лет с 6, под Москвою не был, сидел в Старице с Ываном Зеваловым и на Бронницах был. А жалованья в Торшку не взял, лежал болен. И по боярскому приговору таких велено имать в стрельцы». Ф. Колединский заявил, что холоп убежал от него не 6 лет назад, а в 1613 г., свои права на Ф. Тимофеева он обосновывал тем, что «в нынешнем во 123-м году по челобитью дворян и детей боярских велел государь боярских холопей отдавать им, и тот человек его Федка сопасился (то есть добровольно возвратился.— А. С.) да пришол к нему к Федору на двор и жил у него недель с осмнатцать, да послал его на Резань в братне помесье Юрьево».
Итак, к марту 1615 г., когда Ф. Тимофеев «сопасился», были выработаны ясные принципы «разбора» казачьих станиц. Холопы (и, вероятно, крепостные крестьяне), присоединившиеся к казакам после воцарения Михаила Романова, возвращались прежним владельцам. Холопы, принимавшие участие в борьбе с польскими и шведскими интервентами до избрания Михаила Федоровича, переходили на положение служилых людей «по прибору», причем, по крайней мере, часть из них переводилась в стрельцы в целях постепенного уменьшения численности казачества. Таким образом, правительство было готово принять на службу далеко не всех казаков. Представители Земского собора побывали во «многих местах» и, возвратившись в Ярославль, «возвестиша» «неуклонное их (казаков.— А. С.) свирепство». Осенью 1614 г. восстание еще более расширилось. Тем временем в Ярославле кн. Лыков приступил к формированию карательного войска. В соответствии с наказом он должен был собрать для борьбы с казаками детей боярских нескольких уездов и «охочих всяких людей». В конце ноября в Костромской уезд, где вновь появились казаки, с отрядом иноземцев был направлен стольник И. В. Измайлов. По-видимому, около этого времени «Баловень с товарыщи» остановился в с. Прилуки. Недалеко от села произошел бой между казаками и посланным Лыковым отрядом костромского дворянина А. Алалыкина, во время которого в плен к казакам попал татарин сибирского царевича Маметкула. Известие о том, что казаки в Костроме «учали ставица в поместьях дворян и детей боярских», подтверждается челобитной костромского помещика Ф. К. Шестакова: в 1614/15 г. казака «разграбили и разорили» его поместье и увели с собой его «человека» Осипа Григорьева.
В конце ноября — начале декабря 1614 г. значительная часть восставших сосредоточилась в окрестностях Белозерска и Вологды. К этому времени между казачьими станицами установилось тесное взаимодействие. 6 декабря от Устюжны Железопольской к Кирилло-Белозерскому монастырю подошли отряды Ф. Лабутина, М. Титова, Т. Черного и Безчастного. Через два дня они соединились со станицами казаков и черкас А. Колынского и В. Булатова, к которым бежали также стрельцы из Кирилло-Белозерского монастыря, и вместе с ними двинулись в Чарондскую округу. Помимо вотчин Кирилло-Белозерского монастыря, казаки разорили Ферапонтов монастырь. 700 человек «войска» В. Булатова, прежде тем остановиться в Чаронде, «отвернули» в Озадскую волость Белозерского уезда. Тогда же от Вологды к Чаронде направился атаман Баловень «со многими казаки». 300 человек с артиллерией должны были подойти к восставшим от Бронниц. Как стало известно властям Кирилло-Белозерского монастыря, план казаков был таков: взять Каргополь (а в случае неудачи — Вологду или Белозерск) и с захваченной там артиллерией «приступать» к монастырю.
В декабре 1614 — январе 1615 г. Чарондская округа и Пошехонский уезд были полностью заняты казаками, воеводы оттуда бежали, а сбор налогов на этих территориях прекратился. В дозорной книге 1615 г. отмечено, что на Чаронде многие дворы «пожгли воровские казаки, а которые пашенные люди от литовские и от казачьи войны остались, и ныне живут в остаточных дворех у пашенных крестьян и у непашенных людей». Отряды казаков, с боем пройдя засеки, появились в Каргопольском уезде в ноябре 1614 года. Из Белозерска под Каргополь против казаков был послан «водяным путем» отряд Б. Ушакова. В декабре 1614 г. и в январе 1615 г. в Каргопольском уезде пребывали казаки из Чаронды, Ваги и Новгородского уезда. В феврале в районе Каргополя находились станицы В. Булатова, А. Трусова, Г. Обухова, И. Пестова, Е. Терентьева, Ф. Ослаповского и Е. Поскочина. Весь уезд подвергся опустошению.
На исходе первой Крестьянской войны в России реальной силой, опиравшейся на оружие и организацию, обладали как дворяне и дети боярские, роль которых в жизни страны обеспечивалась всей системой феодального землевладения, так и казаки, чьему месту в структуре русского общества еще предстояло определиться. Стихийные столкновения между ними происходили, по-видимому, постоянно, даже в то время, когда они находились совместно в составе правительственных войск. Антидворянские устремления казаков проявлялись наиболее отчетливо в действиях станиц, ушедших со службы. В 1614-1615 гг. восставшие разоряли на огромной территории поместья и вотчины, а иногда убивали или брали в плен феодалов. В дозорной книге Вологодского уезда 1615 г. отмечены случаи уничтожения казаками крепостнической документации. Именно по настоянию провинциального дворянства правительство приступило осенью 1614 г. к вооруженному подавлению восстания. Вместе с тем «казачья война» наносила значительный урон крестьянству, ставшему, по существу, ее жертвой, что сужало социальную базу восставших.
Положение войска Лыкова осложнилось с появлением в районе восстания пришедшего из-под Новгорода крупного отряда запорожцев под предводительством 3. Заруцкого, пополнившегося затем и русскими казаками. В конце 1614 — начале 1615 г. воеводам удалось одержать двойную победу: 27 декабря Г. Л. Валуев нанес поражение отряду казаков во главе с Р. Карташовым под Вологдой, а 4 января Лыков (к этому времени к нему присоединился Измайлов) разбил 3. Заруцкого под Балахной и двинулся через Ярославль к Вологде, посылая по дороге против казаков «многие посылки». Пленных он «милостиво наказываше, а иных и вешаше». По шведским данным, в отряде Лыкова было 2 тыс. человек, включая иностранцев. Вероятно, не ранее середины января «атаманы и казаки сообщили Лыкову о своей готовности идти на службу под Тихвин». 300 запорожцев из отряда В. Булатова отказались присоединиться к ним и решили уйти на Двину и в Поморье. Отказались от царской службы и многие отряды русских казаков. 19 февраля 1615 г. в Вологде появились израненные и ограбленные иноземцы; они были отпущены Измайловым в свои белозерские поместья, но в Карачаровской волости подверглись нападению со стороны 300 казаков, которых возглавляли атаманы Ворон, Волк, Д. Кубасов, Голеницкий и В. Кулага Кривой.
Отряд атаманов Беляя и Щура в 500 человек (пробиться к И. Заруцкому им так и не удалось) находился в марте в 130 верстах от Белозерска в Андомской волости Белозерского уезда. По признанию пленного казака (бывшего крестьянина вологодского помещика И. Наумова), «обе станицы креста не целовали и на государеву службу не идут». К казакам Беляя и Щура присоединился небольшой отряд запорожцев [прим. 7]. В марте-апреле 1615 г. восставшие по-прежнему занимали весь Белозерский уезд, действовали в Пошехонье и Чаронде. В мае Лыков и белозерский воевода И. Головин все еще продолжали борьбу с казаками в этих районах.
В конце февраля или в начале марта воеводе Г. Л. Валуеву удалось нанести поражение казакам в Тихменской волости Каргопольского уезда. По-видимому, более крупное столкновение восставших с правительственными войсками произошло 12 апреля в Железной Дубровке — волости Угличского уезда. Здесь находилось около 500 казаков атаманов Б. Юмина и А. Колышкина. Восставшие обнесли частоколом избы, в которых жили, и приготовились к обороне. Отряд кн. И. Ухтомского разбил восставших и преследовал их 10 верст. Казаки, укрывшиеся в одном из острогов, погибли в огне. В качестве трофеев Ухтомскому достались набат и знамена казачьих отрядов [прим. 8]. А в 20-х числах апреля («на Егорьев день») станицы (около 200 человек) атаманов А. Тонконогова, Т. Мелкирева и Ж. Калачникова, совершив длительный переход Свирского устья (казаки продвигались через Заонежские и Карельские погосты, дорогой выдержали стычку со шведами), вошли в Лапландию. Позднее Ж. Калачников со своими казаками ушел к Сумскому острогу, а два других атамана оставались в Лопских погостах до декабря 1615 г., намереваясь вновь возвратиться в Заонежье. В конце 1615 г. на Кольском полуострове находился также отряд Новички Васильева, насчитывавший 60 человек.
Предводителем казаков («старейшиною», по словам «Нового летописца») к этому времени стал Михаил Баловнев. Нам удалось установить его происхождение. В судном деле, хранящемся в фонде Разрядного приказа, обнаружены сведения, относящиеся к его роду. В 1643 г. данковский сторожевой казак С. Марков назвал отца и деда своего товарища Ф. Баловнева «изменниками». Состоявшийся в том же году в данковской съезжей избе суд рассмотрел это обвинение. Оказалось, что в начале XVII в. дед Ф. Баловнева вместе с сыном Тимофеем бежал, оставив имущество, из Данкона, жители которого угрожали сбросить их с башни, но не за измену, а за верность дарю Василию Шуйскому. Проигрывая дело в суде, С. Марков показал, что дядя Ф. Баловнева «приходил под Москву с казаками». Против нового обвинения Федор не возражал: «Дядя, деалось, приходил под Москву с казаками, и за то де дядю моего вершили, а я дяди своего бсзчестья не ищу, ищу деда и отца своего, и своего».
После «смуты» Баловневы возвратились в Данков. В писцовой книге Данковского уезда 1627-1628 гг. их двор записан в слободе данковских сторожевых казаков: «Во дворе казак Ондрюшко Иванов сын Баловнев, да у нево брат Тимошка, у Тимошки сын Федка». Таким образом выясняется имя отца М. Баловня — Иван. Он также был казачьим атаманом. В этом чине И. Баловнев упоминается в отписке 1592 г. воронежского казачьего головы Б. Хрущева, обвинявшего его в самовольном отъезде из Воронежа в Данков. Фамилия И. Баловнева и его сыновей (Андрея, Тимофея и Михаила) находится в явной связи с названием данковского села Баловнева.
Данков был построен, по предположению В. П. Загоровского, в 1568 г. в верховьях Дона. В 1571 г. там уже жили казаки. В царствование Ивана Грозного, по данным справки, составленной на основании сказок данковских кителей в 1619 г., в городе насчитывалось 117 сторожевых и 383 полковых казаков. Поместный оклад сторожевых казаков, к которым принадлежали и Баловневы, был установлен в 50 четвертей земли, денежный — в 6 руб. ежегодно. В результате событий начала XVII в. число данковских казаков сократилось более чем втрое — одни переселились в другие города (Пронск, Ряжск, Лебедянь, Воронеж), другие, подобно М. Баловневу, присоединились, вероятно, к отрядам вольных казаков. Впервые правительственные документы выделяют М. Баловня из числа других атаманов 27 января 1615 г., когда он «с товарыщи» встретил за 5 верст от белозерского с. Мегры приехавших из Москвы воевод кн. Н. А. Волконского и С. В. Чемесова. Хотя Волконский позднее утверждал, что к нему идут на службу 30-40 тыс. казаков, более достоверной представляется цифра 8 тыс. человек, которая фигурирует в письме шведского фельдмаршала Э. Горна от 27 апреля 1615 года. 12 февраля Волконский и Чемесов во главе отрядов казаков двинулись под Тихвин к р. Паше. В это время 67 предводителей казаков присягнули в русской столице царю Михаилу Федоровичу. В ответ на просьбы о жалованье и разрешении казачьему войску совершить поход для освобождения Новгорода и Копорья правительство приказало казакам «оставаться там, где они стоят теперь… и собирать все суда и ладьи, какие смогут найти».
Дополнительные сведения о возвращении казаков на государеву службу содержит «посольская записка» 1615 года. В соответствии с ней к царю «обратилось» 15 тыс. человек (цифра, вероятно, преувеличена с тем, чтобы произвести впечатление на новгородцев), из которых 2 тыс. направились под Тихвин. Делегацию от казачьего войска, посланную к царю с «повинными челобитными», возглавил атаман М. Титов. В записке сообщалось, что неповиновавшиеся казаки собирались «итти прямо в корельские и ысборские места». Отряд тихвинских казаков, по-видимому, самочинно приник на оккупированную шведами территорию. До конца мая Горну сообщали о том, что казаки готовятся к походу на Ладожское озеро. Шведский отряд, посланный к Тихвину на разведку, после столкновения с казаками, вынужден был поспешно отступить. Вероятно, не ранее конца мая при попытке смотра казаков большинство отрядов отъехало от воевод. Казаки попытались захватить Ладогу, но недалеко от города между мятежными и верными правительству казачьими отрядами произошло сражение, после которого воеводы, «переграбленные» казаками, вместе со станицами Т. Федорова, Д. Иванова, Д. Орлова, П. Яковлева, Д. Белова, С. Артемьева и А. Маркова, оставив в руках восставших много пленных, отступили к Тихвину, а затем появились в столице.
Среди пришедших в Москву казаков было немало беглых холопов и крепостных крестьян, которые, как и сторонники М. Баловня, не желали возвращаться к прежним владельцам. Об их настроениях на смотре некоторое представление дает расспрос Кузьмы Емельянова, сбежавшего от кн. И. И. Козловского в 1613/14 году. Он признался, что «у смотра имя свое переменил, назвался Максимом Ивановым… для того, чтоб его князь в холопстве не взял». Документы свидетельствуют также о том, что некоторые молодые казаки, не рассчитывавшие на благоприятный исход правительственного «разбора» казаков, бежали от воевод еще во время перехода от Тихвина к Москве.
18 апреля в Москву из-под Новгорода вместе со своей станицей приехал атаман В. Митрофанов и подал челобитную о поступлении в царскую охоту — в конные псари. Отошел от восставших и один из главных его предводителей атаман В. Булатов. Оставшиеся с М. Баловнем станицы слились в единое войско. В казачьем «кругу» под Тихвином восставшие решили «итти к Москве… а будет де ты, государь, их не пожалуешь, вины им в их воровстве не отдашь, и они де хотели итти в Северские городы». По другому свидетельству, казаки согласны были идти под Смоленск при условии — все они будут приняты на службу и получат денежное жалованье. Однако, если «государь велел бы розбирать, которые были в казаках боярские люди или крестьяня, и им деи было за то помереть всем за один, и итти по городом, а иным на Дон». Наконец, Т. Иванов показал: «Переговаривали де атаманы и есаулы, и казаки, он у них слышал: будет де государь не пожалует, вины не отдаст, и у атаманов де и у казаков мысль и совет был отъехать в Литву, а к Лисовскому де хотели отписывать. А в заводе де были атаманы Михайло Баловень да Ермола, да Родка Корташ». Итак, казаки готовы были продолжить борьбу в случае, если их требования не будут приняты.
Основные силы восставших казаков двинулись к Москве через Устюжну и Бежецкий Верх. Узнав об этом, правительство начало стягивать к столице войска. К Москве казаки подошли в начале июля: 20 июня 1615 г. новгородские послы в письме из Москвы еще не сообщали Я. Делагарди о приходе казаков, они полагали, что Лыков находится в Вологде «до получения дальнейших приказаний из Москвы» [прим. 9]. В войске восставших, подошедших в Москве, было более 30 станиц под водительством атаманов, имена которых сохранили расспросные речи и челобитные казаков: Леонтия Алексеева, Петра Андреева, Михаила Баловнева (Баловня), Первуши Булгакова, Матвея Губарева (Губаря), Родиона Гурьева, Тимофея Долгова, Томила Долгова, Лаврентия Домбровского, Лариона Дубровского, Игнатия Ефремова, Сидора Заварзина, Герасима Иванова, Захария Киреева, Родиона Корташова (Кордаша), Второго Крылова, Федота Лабутина, Леонтия Мельникова, Василия Осокина, Григория Попова, Ермолая Семенова, Мурзы Семенова, Андрея Харитоновича Стародубова (Стародуба), Будая Степановича Татаринова, Ермолая Терентьева (Ермака), Василия Тимофеева, Александра Григорьевича Трусова, Петра Черного и Третьяка Черного. Некоторые атаманы (А. Трусов, Е. Терентьев, Ф. Лабутин, М. Семенов) известны по боям со шведами под Тихвином в 1613-1614 гг., другие, очевидно, пришли со своими станицами из Москвы под Новгород вместе с армией Трубецкого или выдвинулись во время восстания. Численность станиц, по-видимому, во многим зависела от популярности атаманов и приблизительно соответствовала отряду в 100 человек.
Вторым человеком в станице после атамана являлся есаул. Внутри станиц казаки были разбиты на десятки во главе с десятниками. У многих, если не у большинства, «старых» казаков служили молодые казаки и подростки («товарищи», или «чуры»), выполнявшие различные вспомогательные работы, в частности пасшие лошадей и заготовлявшие сено. Их зависимое положение своеобразно понял певчий дьяк А. Порывкин, писавший в челобитной в июле 1615 г., что его сын, взятый в плен литовскими людьми, «объявился в казачьих таборах у козака в холопех». Подобная организация станиц объясняет, почему в «разборе» не были заинтересованы даже представители казацкой верхушки, которым не грозило возвращение прежним владельцам, — они теряли свое влияние и своих слуг. Выли у казаков и свои ремесленники: они обшивали казаков, «стругали» ножны для сабель и т. д. Вновь вступавших в станицы «приводили к вере (присяге.— Л. С.)», что они не уйдут из своих отрядов. Высшим органом власти в войске, как и на Дону, был «круг», право голоса на котором имели, по-видимому, все взрослые казаки.
Минимальную численность казаков, пришедших под Москву, В. А. Фигаровский определяет в 18-20 тыс. человек, основываясь на показании псковской повести «О бедах и скорбях», сообщавшей об уходе из-под Москвы «в Литву» после поражения 15 тыс. казаков. Однако этот источник не является надежным. После подавления восстания в Москву были приведены 3256 человек — эта цифра в разрядные книги попала, очевидно, из официального разборного списка. Даже принимая во внимание, что многие казаки были убиты и взяты в плен, трудно предположить, что с М. Баловнем было больше 5 тыс. казаков. Но и такое войско представляло серьезную силу.
В подмосковном с. Пушкино казацкое войско приговорило: «Которые боярские люди были в казаках, а учнут отъезжать к государю к Москве, и тех казаков вешать». Хотя казаки и повесили бывшего холопа И. Измайлова, пойманного при попытке отъехать в Москву, осуществить приговор было нелегко, так как казакам разрешалось ездить в Москву, где у них были родственники и знакомые: 19 июля к находившемуся в столице переяславскому дворянину А. Рахманинову «сопасился» в холопы пришедший с Баловнем казак С. Иванов. Первоначально казацкие «таборы» располагались в районе села Ростокина (неподалеку от места, где ныне расположена Выставка достижений народного хозяйства), куда сразу же потянулись с товарами московские посадские люди. Для переписи и «разбора» казаков к ним приехали из Москвы И. Урусов, Ф. Челюсткин и дьяки П. Шевырев и И. Федоров. Дальнейшие события хорошо описаны в разрядных книгах: «И атаманы и казаки к дворяном и к дьяком к смотру не шли долгое время и переписывать себя одва дали, а говорили: то они атаманы ведают сами, сколько у кого в их станицах казаков». Казаки начали активно «проведывать» про войско боярина Лыкова, который, «утаясь», «проселными дорогами» шел к Москве. Тогда в ответ на это казакам было отказано в торге, что имело место между 10 и 14 июля. С челобитьем от казачьего войска был послан в Москву 14 июля Г. Обухов в сопровождении семи казаков. Только под угрозой военных действий со стороны казаков правительство согласилось не препятствовать торговле посадских людей с казаками.
Между тем войско Лыкова подошло к Москве и стало в Дорогомиловской ямской слободе. 18 июля воевода присутствовал на царском обеде, где был награжден шубой на соболях и позолоченным серебряным кубком. Среда восставших начались колебания. Об атом свидетельствует такой факт: 17 казаков, отъехавших из казачьих «таборов» в войско Лыкова, были прощены и получили денежное жалованье. По справедливому предположению В. А. Фигаровского, именно после прихода Лыкова правительство потребовало, чтобы казаки сменили лагерь и перешли из Ростокина к Донскому монастырю. Восставшие согласились на это неохотно, а «иные начали вещать: только их государь не пожалует и они пойдут к Лисовскому». Смена лагеря произошла, по-видимому, 20 июля (во всяком случае, не позднее): в этот день трое казаков дали вклады в расположенный поблизости от Донского монастыря Симонов монастырь [прим. 10].
23 июля атаманы, есаулы и лучшие казаки, в том числе главные предводители войска М. Баловнев, Е. Терентьев и Р. Корташов, были призваны в Москву: «хощет бог и государь вас жаловати». Казаки не могли не знать о военных приготовлениях правительства: о том, что «на казаков хотят бояре приходить и их побить», сообщали им московские харчевники. Однако именно 23 июля восставшие казаки нападения не ждали [прим. 11]. Многие из них находились на московских дворах и улицах, их кони паслись в стаде у Симонова монастыря, когда во втором часу дня из Москвы начали выходить царские войска. В это же время в «таборы» прискакал атаман Ермак, «а сказал им, что на Москве атаманов Баловня и Кордаша и лучших казаков подовали за приставы» [прим. 12]. Он взял на себя руководство войском и приказал седлать лошадей. Отряд окольничего А. В. Измайлова прошел от Рогожской слободы к Симонову монастырю и остановился против казаков на другом берегу р. Москвы. Посланцы Измайлова пытались уговорить казаков остаться на месте, в это время сам воевода с войсками двинулся по направлению к казачьему лагерю.
Бой завязался, по-видимому, у плавучего моста под Даниловым монастырем. С противоположной стороны, с Воробьевых гор, на казаков ударила армия Лыкова: побили восставших, сообщают источники, «в Даниловском и по Серпуховской дороге». Основные силы восставших во главе с Е. Терентьевым, вероятно, успели отойти по Серпуховской дороге до того, как она была перерезана Лыковым («А отоман Ермак с разгрому утек с теми же воры»). 30 верст до Пахры «топтали» «государевы ратные люди» беспорядочно отступавших казаков [прим. 13]. Среди служилых людей, захвативших казаков «на бою», упоминаются иноземцы и дети боярские из Смоленска, Рязани, Можайска, Медыни, Ярославля, Чебоксар и Переяславля. В самой Москве стрельцы, недельщики и холопы столичных людей ловили казаков и отводили их в московские приказы (Разрядный, Стрелецкий и Казачий).
Из приказов казаков отправляли в тюрьмы: «И нас, холопей твоих, взяли на Москве и привели в Казачей приказ к Ивану Михайловичу Пушкину, и ис Казачьева приказу вкинули, государь, нас в тюрьму». Иногда судьба пленных решалась на заседании боярской думы, так сына боярского С. Д. Милохова «из Казачьева… приказу послали в Верх к бояром, а с Верху послали в тюрьму». Некоторые казаки укрылись в лесах или в самой столице: К. Матвеев, например, несколько дней жил у своего брата, барышника, в Малых Лужниках, а затем ушел на юг, оставив у брата «мерина с седлом да самопал». Уцелевшие восставшие, по свидетельству «Нового летописца», хотели пробиться к «северским казаком». Из Разбойного приказа 23 июля с грамотами о «казатцком побеге» были посланы гонцы в Серпухов, Тулу, Коломну и Рязань. 24 и 25 июля грамоты из Разрядного приказа получили воеводы Боровска и Суздаля. В городах, расположенных вокруг столицы, воеводы должны были перекрывать все дороги, посылать против казаков «станицы» и «подъезды». Первые беглецы были схвачены 25 июля в Боровске на заставах, в тот же день воевода Т. Поливанов послал «в подъезд» сына боярского Р. Бокеева, а в Калугу с грамотой «про воров» — посадского человека по прозвищу Расшиби Шапка. В это время в Боровский уезд прибыла основная масса восставших казаков: Р. Бокеева они «изсекли до полусмерти, а Ивашка Розшеби Шапку ранили ж и, ограбя, замертва покинули». В Малоярославецком уезде казаки убили посланного туда «для расправного дела» сына боярского Зверя Исаева.
Дальнейшее продвижение казаков на юго-запад могло привести к последствиям, весьма нежелательным для правительства. Весной 1615 г. на Северщине появился отряд А. Лисовского, в прошлом одного из сподвижников Лжедмитрия II. Лисовский, который на этот раз открыто участвовал в военных действиях Речи Посполитой против Русского государства, тем не менее охотно пополнял свой отряд русскими казаками. По свидетельству побывавшего в плену у Лисовского сына боярского, он «потчивал» приезжавших к нему казаков, а они называли его «батьком». Всего к Лисовскому присоединилось в России около 80 казаков, из них 60 привел «из Заволжья» атаман Ляд. Соединению с отрядом Лисовского нескольких тысяч казаков, потерявших надежду на службу у царя, должна была во что бы то ни стало воспрепятствовать армия Лыкова, которая шла по пятам за казачьим войском. 27 июля Лыков прислал в боровскую тюрьму 14 казаков (в том числе есаула Т. Михайлова), захваченных во время преследования, четверо из них были казнены. По-видимому, в тот же день под Малоярославцем на р. Луже, правом притоке Протвы, восставшие вступили в бой с правительственными войсками, по, потерпев поражение, сдались Лыкову: «Он же их взял за крестным целованием и привел их к Москве» [прим. 14]. В Москве казаки были сразу же «разобраны»; например, в январе 1616 г. сын боярский П. Корин сказал в Галиче воеводе, что «был в воровстве с казаки з Баловнем… и после разбору пришол он в Галицкой уезд». Таким образом, к концу июля 1615 г. войско М. Баловня перестало существовать.
Данные о социальном составе и происхождении восставших казаков, столь редкие для начала XVII в., представляют особую ценность. Ядро казачьего войска составляли участники подмосковных ополчений, сражавшиеся с поляками в 1611-1612 гг. под началом кн. Трубецкого и И. Заруцкого: «Служили мы, холопи твои, под Москвою… со князем Дмитреем Тимофеевичем Трубецким без съезду», — писали в челобитной казаки Василий и Михаил Ивановы. Среди пленных было не менее 21 «ополченца», в действительности же — гораздо больше, так как источники чаще всего умалчивали о прошлом казаков. Осенью 1607 г., «как вор пошел из Стародуба», становится казаком дворцовый крестьянин из окрестностей Зарайска С. Петров. Ростовский крестьянин В. Ефремов к 1615 г. служил в казаках, «как прибирал Григорей Волуев, тому осмой год». С 1607/08 г. стал казаком «тульский жилец» К. Матвеев. Во время похода кн. М. В. Скопина-Шуйского к Москве к его войску в 1609 г. присоединился крестьянин из старицкой вотчины Троице-Сергиева монастыря Ф. Михайлов. После «московского разорения», то есть пожара Москвы в парте 1611 г., к казакам примкнули московский стрелец И. Петров, московский торговый человек И. Ф. Кошелев и сын дедиловского служилого иноземца И. Степанов. В течение четырех лет был казаком крестьянин Михайловского уезда Е. Иванов. В «смутное время» ушел к казакам крестьянин из подмосковного села вдовы окольничего В. Ф. Воронцова Ф. Иванов и т. д. О том, что через ополчения прошли казаки отряда Баловня, а может быть, и сам атаман, свидетельствует показание казака Б. Карпова: в казачьем войске ему встретились «Баловневы станицы знакомые, которые стояли с нами под Москвой». Атаманом первого ополчения был и С. Заварзин, сыгравший в 1611 г. видную роль в подготовке убийства П. Ляпунова.
Большинство пленных признали, что они стали казаками уже после воцарения Михаила Федоровича: одни присоединились к станицам, воевавшим со шведами, другие — к отрядам, ушедшим с правительственной службы. В 1612/13 г. бежал к казакам холоп кн. Ф. Куракина И. Иванов. В следующем году казаки «подговорили» кабального холопа А. Леонтьева уйти от своего господина — певчего дьяка Ю. Букина. Тогда же из новгородского поместья Ф. Тараканова «побежал» крестьянин В. Яковлев. Год пробыл у казаков служка Брянского Свенского монастыря А. Наумов, полгода — сын ярославского посадского человека П. Никулин и 20 недель — крестьянин Городецкого уезда А. Иванов.
Наиболее крупные социальные группы среди восставших составляли бывшие холопы и крестьяне. Об их соотношении в известной мере позволяют судить расспросные речи 25 казаков, взятых в плен в Суздале, Боровске, Туле и Троице-Сергиевом монастыре после сражении под Москвой: 17 человек назвались крестьянами (светских феодалов, монастырей и дворцовыми), пять — холопами, один — посадским человеком и двое — казаками (из Ряжска и Нижнего Новгорода). В отличие от этих данных сведения о социальном составе казаков, захваченных в плен в Москве и под Москвой после сражения 23 июля, менее полны. В сохранившихся документах холопы упоминаются чаще, нежели крестьяне. В московских тюрьмах находились казаки Баловня, вышедшие и из других сословий: бывшие посадские люди (в источниках есть сведения об 11 человеках), дети боярские (10 человек), монастырские служки, служилые иноземцы, стрельцы, казаки и гулящие люди. Некоторых детей боярских, по их словам, казаки взяли силой, но для многих основной причиной вступления в казачьи станицы было разорение: «для бедности беспоместной» ушел к казакам каширянин С. Д. Милохов, «для бедности и разоренья» — новгородец С. Д. Обеитов.
По мнению И. П. Долинина, «выходцы из деклассированного дворянства» в казачьем войске сближались по положению с казачьей верхушкой: «Казачьи атаманы становились помещиками, а дворяне переходили в казаки, становясь атаманами». Наши данные, относящиеся к несколько более позднему времени, не подтверждают этих наблюдений. Происхождение, по-видимому, не имело существенного значения в казачьих станицах, и выдвинуться в них детям боярским было не многим легче, чем бывшим холопам или крестьянам. Среди детей боярских, взятых в плен в июле 1615 г., лишь один («боровитин» Г. И. Синицын) был десятником, остальные — рядовыми казаками. Заметным элементом в войске Баловня были русские пленные, отбитые казаками у шведов и «литвы» или присоединившиеся к казачьему войску по выходе из плена. После боев под Ладогой стали казахами бывший холоп Ф. Выговского, взятый в плен паном Каменским в 1610/11 г. под Суздалем, и холоп Тироновых, попавший в плен в Угличском уезде. «На бои… у литвы» летом 1614 г. был отбит казаками 20-летний волочанин Н. Семенов, годом раньше — крестьянин Дмитровского уезда О. Кондратов. Из Новгорода, из шведского плена вышли холоп И. Леонтьева и служка новгородского Никольского Троицкого монастыря.
Крестьяне, холопы и посадские люди тех районов, где действовали восставшие казаки в 1614-1615 гг., хотя и были широко представлены в казачьих станицах, не составляли в них большинства. Впрочем, определить территориальную принадлежность восставших порой затруднительно: так причудливо складывались судьбы людей в начале XVII века. Ф. Андреев до того, как встретил казаков в декабре 1614 г. на дороге из Ярославля в Вологду, был «пашенным крестьянином» Царева-Займища, во время осады Москвы Лжедмитрием II жил в московской Овчинной слободе, ушел из Москвы в Вологду за несколько дней до восстания в марте 1611 г. и, наконец, после разорения Вологды в сентябре следующего года польско-литовскими отрядами перебрался в Ярославль, где «кормился» извозом. В обстановке общественного брожения и экономической неустойчивости тех лет многие крестьяне и посадские люди оставляли или были готовы оставить насиженные места и привычные занятия. Как показывает дозорная книга 1615 г., только из Чухломского уезда в 1613/14 г. и 1614/15 г. «ушли безвестно» около 40 крестьян. Чухлома находилась в непосредственной близости от района действия восставших, поэтому уход к казакам некоторых из этих крестьян более чем вероятен. По-видимому, почти не было под Москвой в июле 1615 г. запорожских казаков, игравших заметную роль на более ранних этапах движения.
После того, как М. Баловнев и другие «старейшины» были повешены, в тюрьмах еще находились десятки восставших, захваченных вместе с Баловнем в Москве, в сражении под Москвой и во время преследования казачьего войска. 35 атаманов, есаулов и казаков (вероятно, приехавших в Москву за царским «жалованьем» 23 июля) были разосланы 23 сентября 1615 г. по тюрьмам Нижнего Новгорода, Коломны, Касимова, Балахны, Костромы, Галича и Суздаля. Среди них было немало видных предводителей казачьего войска: атаманы Т. Черный, А. Трусов, М. Семенов, П. Андреев, В. Крылов, Р. Гурьев, Л. Алексеев, В. Тимофеев и А. Стародубов. В апреле 1616 г. казаки, содержавшиеся в Боровске, совершили побег из тюрьмы через вырытый ими подземный ход, но были вновь пойманы. Некоторых рядовых казаков в 1615-1616 гг. возвратили прежним владельцам или записали вновь в городские дворянские корпорации, посадские объединения и стрелецкие приказы. Условием освобождения из тюрьмы служила поручная запись по казаке, «что ему… не изменить, в Литву, и в Немцы, и в Крым, и в ыные ни в которые государства и в изменничьи городы, и к Лисовскому не отъехать, и к воровским казаком к изменником не приставать, и с воры с ызменники не знатца, и грамотками и словесно не ссылатца, и не лазучить и иным никаким воровством не воровать».
«Тюремные сидельцы», которым по каким-либо причинам было трудно найти поручителей, стали легкой добычей столичных феодалов, не имевших на них никаких прав. В холопы кн. А. Лобанову-Ростовскому были отданы из тюрьмы бывший холоп кн. Ф. Шаховского, два посадских человека (москвич и новгородец) и смоленский стрелец. Г. М. Волынский получил бывшего холопа новгородского помещика М. Огалина, Салтыковы — холопов П. Ф. Басманова и В. И. Бутурлина, дьяк М. Сомов — холопа кн. Ф. Звенигородского, дьяк П. Третьяков — посадского человека Устюга Великого и т. д. В июне 1619 г. были освобождены из костромской тюрьмы атаман Л. Алексеев «с товарыщи» «для отца нашего преосвященнаго митрополита Филарета Никитича». Амнистия, объявленная по случаю возвращения из польского плена Филарета, коснулась, возможно, и других соратников Баловня.
Восстание 1614-1615 гг. охватило значительную территорию Русского государства, но не нашло поддержки у основной массы населения. После того, как попытка «вольных казаков» пробиться к И. Заруцкому окончилась неудачей, восставшие не пытались более свергнуть Михаила Романова. Их цели — зачисление на царскую службу или уход за пределы России — были специфически казацкими, и в этом в первую очередь заключалась слабость движения [прим. 15]. В ходе тогдашних событий произошло размежевание казачества и дворянства, и после воцарение первого Романова феодалы выступили в борьбе против казаков единым фронтом. Хотя в войске Баловня находились десятки (если не сотни) деклассированных детей боярских, последние не были объединены в самостоятельные отряды, которые выражали бы интересы этого сословия или уездной корпорации.
В те же годы, когда на севере России ширилось казацкое движение, сходные события имели место на Украине, где наряду с разгромом запорожскими казаками имений феодалов происходило массовое показаченье местного населения. В начале 1630-х годов казаки подняли новое восстание, известное как «Балашовщина», которое было во многом схоже с восстанием 1614-1615 годов.Примечания
1. В. Н. Татищев связывал восстание 1614-1615 гг. с закрепощением крестьян: «Но царь Федор Иванович в 7106 году оных и холопей сделал крепостными, ис которого начался бунт Боловнин и великое государству разорение произошло».
2. ЦГАДА, ф. 210, Столбцы Приказного стола, л. 2. л. 116. После оплавления восстания Указная книга Разбойного приказа была дополнена документом об имуществе, отнятом казаками у «тутошних и проезжих людей» («Памятники русского права». Вып. 5. М, 1959, стр. 199-200). О действиях М. Козлова под Москвой в августе 1612 г. см. ПСРЛ. Т. XIV. стр. 125.
3. В правительственных документах 1614 г. И. Нагибин именуется иногда и как И. Нагиба (АМГ. Т. 1, стр. 105). Известно, что «казак Нагиба» находился среди самых «стойких и верных до конца участников борьбы», которую возглавлял И. Болотников (И. И. Смирнов. Восстание Болотникова. 1606-1607. Л. 1951, стр. 508).
4. Вероятно, келарь Чудова монастыря (см. С. А. Белокуров. Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоровича Романова. М. 1913, стр. 76).
5. «Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел» (СГГиД). Ч. III. М. 1822, стр. 100. Нельзя согласиться с мнением В. А. Фигаровского, что уговоры восставших представителями властей и духовенства в это время не дали результатов. (В. А. Фигаровский. Указ. соч., стр. 208); ЦГАДА, ф. 210, Столбцы Приказного стола, д. 2, л. 288 сл.
6. «Памятники русского права». Вып. 4. М. 1956, стр. 381-382. Этот указ можно датировать более точно. А. И. Колтовский упоминается в Казачьем приказе в апреле 1614 г., в июле 1615 г. судьей в нем уже стал И. М. Пушкин, — указ, таким образом, был принят не позднее июля 1615 г. (С. К. Богоявленский. Приказные судьи XVII века. М.-Л. 1946, стр. 67; ЦГАДА, ф. 210, Столбцы Приказного стола, д. 2, л. 199)
7. Возможно, ранее Беляй и Щур стояли в Каргопольском уезде: по сведениям каргопольских воевод, «воровские атаманы и казаки» 18 января направились из-под Каргополя «в кемские села и в Андому» (РИБ. Т. XXXV. Птгр. 1917. стб. 380).
8. В конце января 1615 г. в Тихменской волости стоял атаман В. Булатов (РИБ. Т. XXXV, стб. 386). Вероятно, часть его казаков отказалась вернуться на службу, против них и был направлен отряд Г. Валуева.
9. Даже 2 июля в Москве еще ничего не знали о движении казаков к столице — в этот день в войско Б. М. Лыкова, стоявшее в Ярославле, был послан для раздачи наград стольник П. Измайлов (РИБ. Т. XXVIII, стб. 767).
10. Известны также вклады казаков М. Баловня в Троице-Сергиев монастырь (Архив АН СССР, ф. 620. оп. 1, д. 18. л. 942 об.).
11. Время последних сражений с восставшими под Москвой и на Луже не было известно; В. А. Фигаровский датировал их апрелем — маем 1615 г. (В. А. Фигаровский. Указ. соч., стр. 215).
12. Псковская повесть сообщает, что в Москве было арестовано 300 казаков («Псковские летописи». Вып. I, стр. 132). Эти данные преувеличены. 24 июля «колодником, что сидели в Розряде за приставы, атаманом Баловню с товарыщи» 18 человекам было выдано на корм 12 алтын. Днем раньше у атаманов (Г. Обухова. Третьяка Черного, Будая Татаринова, Второго Крылова, Мурзы Семенова), есаулов и казаков, «которые воровали с атаманом с Михаилом Баловневым», было отобрано 240 руб.: среди последних (также 18 человек) не упоминаются ни М. Баловнев, ни Р. Корташов (РИБ. Т. XXVIII, стб. 290, 356).
13. В правительственных грамотах говорится, что казаки «побежали» Калужской, Серпуховской и Каширской дорогами, в разрядных книгах, кроме того, называется Оболенская дорога (В. А. Фигаровский. Указ. соч., стр. 214).
14. ПСРЛ Т. XIV. стр. 186. «Князь Борис Михайлович Лыков… тех казаков по- громил за Малым Ярославцем на Луже на реке» (ЦГАДА. ф. 210, Столбцы Приказного стола, д. 2, л. 375). В. А. Фигаровский полагал, что казаки были настигнуты Б. М. Лыковым в Ярославском уезде (В. А. Фигаровский. Указ. соч., стр. 215)
15. Противоречивость позиции казачества в конце первой Крестьянской войны, склонность его к компромиссам «за счет коренных требований крестьянства и холопства» подробно рассмотрены В. Д. Назаровым (В. Д. Назаров. О некоторых особенностях Крестьянской войны XVII в. в России. «Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе». М. 1972, стр. 125).
Автор: Станиславский А. Л.