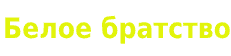Разрядные книги; военная элита; аристократия; дворянство; Смутное время; Борис Годунов. В статье уточняются изменения, произошедшие в годы правления династии Годуновых (1598-1605) в социальном составе русской военной элиты.
Изучение источников подтверждает рост влияния знатнейшей нетитулованной аристократии в процессах рекрутирования высшего командного состава. Политическая элита времен правления Годуновых отлично изучена. Ключевые фигуры, крупнейшие группировки и их борьба хорошо известны благодаря трудам Р.Г. Скрынникова, А.А. Зимина и А.П. Павлова, а также классическим работам их дореволюционных предшественников. Однако военная элита России годуновского периода до сих пор не становилась предметом специального исследования. Важнейшую роль выполняли военачальники, возглавлявшие самостоятельные полевые соединения (армии), а также отдельные полки в их составе. Они-то и составляли армейскую элиту.
Обширные сведения о составе воеводского корпуса и, в частности, о полководцах, получавших эти высокие должности, дают разрядные книги [6, с. 27, 73-74, 79, 116, 131, 143, 192-193, 202-203, 210, 212-213, 246; 5, с. 319; 7, с. 21, 125-126, 163; 4, с. 139-140, 143-153, 155, 167, 169, 176-178, 188-189, 192, 199, 209-210, 216, 218-219, 225, 231; 3, с. 22-23, 24, 79, 88, 104, 109, 121-122]. Итак, данная статья представляет собой исследование русской военной элиты годуновского времени на основе разрядных книг. 1. За все время правления Годуновых (1598-1605 гг.) по разрядам фиксируется 25 не вызывающих сомнения боевых выходов, когда формировались армии, состоящие из 2-6 полков, иначе говоря, самостоятельные полевые соединения. В одном случае командующий в полевом соединении 2 был скоро заменен (еще до окончания боевой операции). Таким образом, всего командующие назначались 26 раз.
При государях Борисе Федоровиче и Федоре Борисовиче Годуновых представители нетитулованной аристократии 5 раз оказывались на подобного рода постах. Таким образом, общее присутствие нетитулованной знати на высших воеводских постах в действующих полевых соединениях составляет 19 % от общего числа назначений – чуть выше того уровня, что был в царствование Федора Ивановича (18,5 %) 2. Заметная разница с предыдущим правлением состоит прежде всего в том, что исчезает особое положение в действующей армии Б.Ф. Годунова. Воцарившись в 1598 г., Борис Федорович перестал участвовать в походах, за исключением мирно окончившегося боевого выхода под Серпухов в том же году.
Никто из его близкой родни – Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых – не стал ему заменой в верхнем эшелоне воеводского корпуса, никто не получил столь же высокого статуса. 3. Представители неаристократических родов среди командующих действующими полевыми соединениями встречаются только 1 раз (4 % от общего числа назначений на такого рода посты). Это Т.С. Пушкин. Он принадлежит знатному роду, однако, не дотягивающему до положения аристократического. 4. Выезжая знать (князья В.К. Черкасский и «воеводич» Д.И. Волошский) – получала должности командующих 4 раза, т.е. 15 % от общей суммы. Князь В.К. Черкасский, возглавлявший полевые соединения 3 раза, сохранил то весьма высокое положение, какое было при Федоре Ивановиче у Б.К. Черкасского. 5. За русской титулованной знатью – 16 назначений, иначе говоря, 62 % от всех назначений. Т.е. несколько меньше, чем было при Федоре Ивановиче (69,5 %). Чаще прочих командовать полевыми соединениями ставили князей Ф.И. Мстиславского (3 раза), Т.Р. Трубецкого (3 раза) и М.П. Катырева-Ростовского (2 раза), В.Г. Щербатого-Оболенского (2 раза). В сравнении с предыдущим царствованием видно утеснение князей Голицыных. А вот лидерство Трубецких в военной сфере продолжается. В подавляющем большинстве случаев высокая частота назначений на подобного рода должности связана с выдающейся знатностью, т.е. исключительно высоким положением воеводы в служебно-местнической системе. Это в полной мере относится к князьям Ф.И. Мстиславскому. В.В. Голицыну, М.П. Катыреву-Ростовскому, Т.Р. Трубецкому.
Однако в отношении двух последних действуют, очевидно, и другие факторы, заставляющие клан Годуновых поддерживать их высочайший статус в воеводском корпусе. Трубецкие играли роль последовательных союзников годуновской «партии». А М.П. Катырев-Ростовский, знатнейший на разветвленном генеалогическом древе Ростовского княжеского дома, был равен в местническом отношении Ф.И. Мстиславскому и, вероятно, мыслился как своего рода противовес ему. Щербатые, далеко не столь знатные представители одной из младших ветвей княжеского дома Оболенских, могли вызывать доверие у Годуновых как давние опричные служильцы.
К тому же, князь 99 В.Г. Щербатой служил в воеводских чинах давно, как минимум, со второй половины 1570-х, являлся опытным командиром и с этой точки зрения был весьма ценен. 6. На посты первых воевод в остальных полках, помимо большого, за период царствования Годуновых было сделано 68 назначений. 7. Из них 21 раз на подобные должности ставились представители древних боярских родов или же бывших княжеских, утерявших право на титул (Полевы). Это приблизительно 31 % от общего количества назначений – заметно больше, чем при Федоре Ивановиче (20 %) и примерно столько же, сколько было в земщине на период существования опричнины Ивана IV (30 %).
Можно предположить, что Годуновы оказывали покровительство социально близкой среде старомосковского боярства, продвигая его представителей на воеводском поприще. При трагических обстоятельствах выпал из военной (и политической) элиты знатнейший боярский род Романовых-Юрьевых. В 1600 г. по воле царя Бориса Федоровича он подвергся страшному разгрому. Опальные представители семейства Романовых-Юрьевых оказались разосланы по дальним городам, некоторые лишились жизни, а виднейшей в роду персоне, Федору Никитичу Романову, пришлось принять иноческий постриг. По «делу Романовых» подверглись гонениям и опалам князья Черкасские, Сицкие, Бахтеяровы-Ростовские, Репнин, Пушкины [2, c. 73-75].
Шереметевы при Иване IV и Федоре Ивановиче играли роль одного из признанных лидеров воеводского корпуса. При Годуновых их звезда закатилась – во всяком случае, в военной сфере. Причиной послужили опалы, в разное время обрушивавшиеся на виднейших представителей этой фамилии – Ф.В. Шереметева, а затем весьма востребованного военачальника – П.Н. Шереметева. Род был расколот враждой между старшими его представителями, это и было важной, быть может, важнейшей причиной опал, которые устраивали друг другу доносами близкие люди [1, c. 21, 22, 367]. Годуновы, Вельяминовы и Сабуровы, как и в царствование Федора Ивановича, входят в лидирующую по политическому «весу» и придворному влиянию группировку и занимают видное место в воеводском корпусе. Но их недостаточно много, чтобы контролировать воеводский корпус в целом, и они недостаточно знатны, чтобы можно было ставить их во главе армий, полков, зная, что прочая служилая знать им подчинится. Поэтому, как и при Федоре Ивановиче, во времена правления Бориса Годунова его клану приходилось полагаться в военной сфере на союзников. 8. Из выезжей знати в полковых воеводах виден один лишь князь П.А. Черкасский (около 1,5 % назначений). На исходе царствования Бориса Федоровича он исполнял второстепенную воеводскую должность в «малом разряде» на Рязани. 9. Выходцы из слоев, стоящих ниже служилой аристократии при Годуновых в военную элиту почти не допускались.
Исключение составляют два второстепенных боевых выхода: осенью 1604 г. под Мценск «на обмену большим воеводам» и такой же сменный разряд «меньших воевод» по «украинным городам», то ли 1601, то ли 1602 г. (всего около 4,5 % от общего числа назначений). В первом случае Передовым и Сторожевым полками командовали Ф.А. Еропкин и князь Ф.И. Волконский по прозвищу Мерин. Во втором случае над маленьким сторожевым полком начальствовал А.В. Замыцкий. 10. Как и при Федоре Ивановиче, чаще всего первыми воеводами в отдельных полках становились представители русской титулованной (княжеской) аристократии. На них приходится в общем счете 43 назначения или приблизительно 63 % от общего их числа. При Федоре Ивановиче эта цифра составляла 67 % – различие незначительное. Разительный контраст с предыдущим правлением являют Шуйские.
Подняв знамя борьбы против Годуновых и потерпев полное поражение, они долгое время не играли сколько-нибудь заметной роли ни при дворе, ни в вооруженных силах. Но после выступления князя В.И. Шуйского, который возглавлял расследование по делу о гибели Дмитрия Углицкого, в пользу Годуновых3 , произошло частичное восстановление их прав и высокого статуса при дворе. В царствование Бориса Годунова Шуйских не боятся ставить на важные военные посты, доверяют им командование в критических ситуациях, т.е. возвращение Шуйских в состав воеводской элиты совершенно очевидно. Более всего доверял царь Борис Федорович князю Д.И. Шуйскому, который приходился ему свояком, оттого, видимо, и давал ему крупные воеводские должности намного чаще, нежели другим Шуйским. Однако, как покажут события Смутного времени, Д.И. Шуйский не имел дарований полководца и был весьма посредственным «командармом».
Голицыны – влиятельный, богатый и весьма знатный род. Гедиминовичи, они стояли на верхних позициях в иерархии местнической «чести». Однако при Годуновых они приняли роль полуопальных вельмож. Голицыны редко назначались на ключевые посты, им ни разу за всю царствование не доверили возглавлять самостоятельные полевые соединения. Союзники и родственники Голицыных, князья Татевы, – явные недоброжелатели Годуновых. К тому же, в 1580-х гг. Татевы пострадали от опал как сторонники Шуйских, коих разгромили и унизили Годуновы. Они не столь родовиты, как Голицыны. Казалось бы, нет никаких оснований для того, чтобы Татевы получили особое влияние и пользовались особой востребованностью в воеводском корпусе. И, однако, их часто назначают полковыми воеводами. Очевидно, частичная «реабилитация» рода Шуйских положительно сказалась и на Татевых. Впрочем, можно подозревать и другую причину высокого положения Татевых в воеводском корпусе – выдающиеся тактически дарования у князя Б.П. Татева, одного из самых «занятых» военачальников годуновского времени.
Он отогнал татар под Курском в 1600 г., удачно действовал против Лжедмитрия I в 1604, затем громил болотниковцев на подступах к Москве и под Калугой, и мог считаться удачливым, искусным полководцем до несчастного сражения на Пчельне (1607), где был разбит теми же болотниковцами и погиб. Напротив, М.С. Туренин – явно из лагеря Годуновых. Туренины имели родственные связи с Годуновыми и поддерживали их в придворной борьбе. Соответственно, М.С. Туренин, очевидно, стал одним из проводников влияния Годуновых в армии. Но главная опора царя Бориса Федоровича в армии, конечно же, старинный его союзник – семейство Трубецких. Главная фигура среди военачальников, коих поставлял их род, – боярин князь Т.Р. Трубецкой. Эту роль ему щедро оплачивали успехами в местнических тяжбах [2, c. 41]. Еще один высокопоставленный «агент влияния» Годуновых в армии – князь А.А. Телятевский, талантливый полководец и зять влиятельного С.Н. Годунова, награжденного прозвищем «правое ухо царево». Такие же друзья Годуновых – князья Ромодановские. Племянник видного воеводы И.П. Ромодановского и сын другого воеводы, не столь значительного, Г.П. Ромодановского, Иван, был женат на А.М. Годуновой; а ее отец Матвей Михайлович Годунов заседал в Боярской думе и был доверенным лицом при государе Борисе Федоровиче. Вот исток их возвышения в воинской среде.
Союзничал с Годуновыми князь Ф.А. Ноготков-Оболенский, чрезвычайно опытный военачальник и самый востребованный воевода предыдущего царствования. Он жестоко местничал с РомановымиЮрьевыми и даже позволял себе публичные издевательские высказывания в адрес Ф.Н. Романова [8, c. 117]. К тому же, от царя Бориса Федоровича, по случаю восшествия на престол, князь получил боярский чин, а в дальнейшем выиграл несколько крупных местнических дел, имея сомнительные позиции. Возможно, высокий статус воеводы при дворе и в армии поддерживался не только за счет его местнической чести или воинского опыта, но и за счет женитьбы его брата, князя И.А. Ноготкова, на дочери боярина Б.Ю. Сабурова. Царь Борис Федорович создал своего рода «домен влияния» внутри русского воеводского корпуса. Помимо самих Годуновых и их близких родственников в этот домен вошли князья Трубецкие, князь М.С. Туренин, князь А.А. Телятевский, князь И.Д. Хворостинин, М.Б. Шеин, Морозовы и Плещеевы (особенно Басмановы-Плещеевы), а также, по всей видимости, – Бутурлины, князья Ромодановские и князь Ф.А. Ноготков. Возвышение в военной сфере сопровождалось успехами в сфере придворной и политической. Так, Басмановы-Плещеевы были обласканы Борисом Годуновым, вышли в думные чины, обрели высокое положение при дворе; князю А.А. Телятевскому дали боярство; родич Салтыковых В.П. Морозов и князь И.Д. Хворостинин получили окольничество; М.Б. Шеину, женатому на дочери М.О. Годунова, также достался чин окольничего; Ф.А. Бутурлину пожаловали окольничество при восшествии Бориса Годунова на престол [2, c. 64, 69-70].
Ромодановские далеко продвинулись на военном поприще, хотя со времен Ивана III были малозаметны в воеводском корпусе. Таким образом, Борис Федорович Годунов обзавелся весьма значительной группой ведущих военачальников, которые являлись его «милостниками». Система рекрутирования военачальников на ключевые воеводские посты из среды служилой аристократии не претерпела при Годуновых системных трансформаций. Но произошли изменения иного рода: отступление одних фамилий знати на второй план или даже полное их исключение из военной элиты, возвышение других семейств; и то, и другое связано с борьбой «придворных партий». Победа партии Годуновых не вызвала у других аристократических кланов ни смирения, ни поддержки. Годуновым приходилось создавать и поддерживать «живую крепость» из союзников, родственников и брачных свойственников, которые должны были защитить своих «патронов», а также проводить их волю в военной сфере. Это создавало в русском воеводском корпусе напряжение между сторонниками и недоброжелателями Годуновского семейства. Прежде всего, линия раскола проходила через область местнической иерархии. Годуновым приходилось расплачиваться со своими друзьями не только высокими чинами, но и поддержкой в местнических тяжбах. Несправедливость или, используя термины старомосковской действительности, «поноровка» в пользу годуновских фаворитов должна была вызывать обиду у пострадавших и тревогу у нейтральной массы служилой аристократии. Трещина, окружавшая «домен» влияния Годуновых в армии, в обстоятельствах Смуты оказалась гибельной.
1. Барсуков А.П. Род Шереметевых. СПб., 1882. Т. 2.
2. Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992.
3. Разрядная книга 1475-1605. М., 1994. Т. IV. Ч. 1.
4. Разрядная книга 1550-1636 гг. Том II. Вып. 1. М., 1976.
5. Разрядная книга 1559-1605 гг. М., 1974.
6. Разрядные записи за Смутное время (7113-7121 гг.) / Составитель Белокуров С.А. М., 1907.
7. Разрядные книги 1598-1638 гг. М., 1974.
8. Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». Изд. 2-е. М., 1985.
Д.М. Володихин